Шутка
Взрывник Голоедов пришел в контору качать права. Между застёжек ватника у него торчал конец бикфордова шнура.
Главный инженер Паршин посмотрел на него со скукой, спросил неприветливо:
— Чего тебе, Голоедов?
— Второй месяц премии не дают. Это как по-вашему?
— По-нашему так: не пей, и всё будет в порядке.
— Я на рабочем месте не пью.
— А дома?
— А дома моё дело.
— Нам телега пришла?! Пришла! — закричал Паршин. — Обязаны мы реагировать?
Голоедов придвинул стул, сел.
— Не уйду, пока аванс не выпишете.
Паршин наоборот вскочил, вышел из-за стола, встал перед Голоедовым:
— Мы тебе не аванс, мы тебе прогул запишем! Понял?
Голоедов кивнул.
Паршин достал сигареты, спички, закурил.
— А ещё раз напьёшься, как семнадцатого, уволим по статье. И чирикаться здесь с тобой никто не собирается.
Голоедов встал, тоже достал спички и зажёг конец шнура, торчащего из-под ватника. Шнур зашипел, заплевался искрами.

Голоедов обхватил поверх рук главного, привалил его к стене. Тот выдергивался, но Голоедов держал крепко.
Конторские и все, кто здесь были, уже давно прислушивались к их перебранке, а тут, увидев, как оно обернулось, оторопели от неожиданности.
Голоедов между тем говорил громко и внятно:
— Из дома выгнали, с работы гонят, денег нет. В общем, не жилец Голоедов. Сейчас шнурок догорит и эти полкило, что у меня за пазухой, грохнут. Понял? Меня не будет живым, но и твоя требуха на проводах повиснет.
Шнур трещал уже где-то в районе голоедовского живота. Бывшие в конторе, сообразив, наконец, что к чему, ринулись наружу. Паршин неожиданно обмяк, закатил глаза и неприятно запах.
Голоедов усадил его на стул, расстегнул ватник и вынул кусок резинового шланга, из которого валил дым от догорающего шнура.
— Ладно, живи, — сказал он. — Я пошутил.
И пошёл из конторы.
Троллейбус
Мужчина неопределенных лет и занятий шёл по улице с дамой. То ли сделал он ей что-то такое ненароком, то ли наоборот не сделал, а должен бы был, то ли день обличьем не вышел — сверху гадость какая-то сырая сыпалась и тут же расползалась под ногами, — по той или иной причине настроение у дамы было нехорошее.
Мужчина несколько раз спросил её о чём-то, но лучше бы уж вовсе не получал ответа, такая его спутница была мрачная.
Так они дошли до троллейбусной остановки.
— Брось ты всё это, — сказал мужчина, но дама не бросала.
— Ну, хочешь, я тебя рассмешу, — спросил он и остановился.
— Пошёл ты, — вяло ответила она, однако тоже встала.
Подошёл троллейбус, задребезжал дверьми, во все стороны полезли люди.
Мужчина зашёл за троллейбус, ловко размотал сзади верёвку и отвёл троллейбусные палки от проводов.
В троллейбусе что-то щёлкнуло, сверкнуло, и он перестал дышать.
— Подержите, я сейчас, — сказал мужчина проходящему мимо гражданину, тот почему-то сразу согласился и начал держать.
Мужчина отошёл к своей даме.
Прибежал водитель троллейбуса в резиновой рукавице и, увидев гражданина с верёвкой в руке, напрочь потерял дар речи. Он просто взял и въехал гражданину в ухо своей тяжелой рукавицей. Тот выпустил верёвку и, рыча, бросился на водителя. Водитель тут же обрёл утерянный было дар, и дар этот оказался могучим и свободным.
Дама начала смеяться.
— Вот видишь, — сказал ей мужчина. — Я же обещал. А ты не поверила.
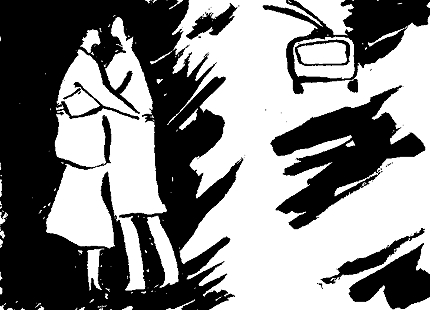
— Ну, ты и сволочь, — говорила между тем дама сквозь приступы смеха. — Редкостная сволочь. Меня предупреждали, что ты сволочь, но я не верила, думала, как все. А ты просто фантастическая сволочь.
— Ну что ты, что ты, — засуетился мужчина, взял её под руку, повёл в сторону.
Троллейбус укатил.
С неба сыпалось и разъезжалось.
Было не смешно.
Оборотень
Насколько всё-таки всё условно в природе человеческой.
Взять хоть ту же красоту, — сколь немногим отлична она от безобразия: чуть крупнее рот, слегка лупастее глаз, тоньше нос, острее скула, круче лоб, висловатее щека — и ты не то что красавец, а такая уже образина, что остаётся на острове безлюдном засесть и аленький цветочек отращивать...
— Но ты-то ведь красив, — сказал Гримёр. — Так зачем тебе? Они и так все твои.
|

|
|
— Вот именно, — уныло согласился Красивый. — Слова не успеешь выговорить, глазами слегка мазанёшь и готово — она уже рядом, уже дышит с затактом. Надоело нафиг.
— Ну, это я не знаю, — задумчиво сказал Гримёр. — Это тебе, скорее всего, по другому ведомству надо — к товарищу Кащенко или к Скворцову-Степанову.
— Да нет же. Именно к тебе. Сделай мне другой фейс. Обыкновенный. Даже немного ущербный.
|
— Вот на! Зачем тебе? — удивился Гримёр.
— На интеллект хочу её взять.
— Кого?
— Кто попадёт.
— Откуда у тебя интеллект, если ты от счастья своего отказываешься...
Но Красивый упёрся — "Сделай и всё!". И уговорил-таки. А гримёр это был такой, что из кого хочешь кого угодно сотворит: из Дон-Кихота Дон-Жуана, из Эйнштейна Франкенштейна, из бабушки Красную Шапочку.
А здесь и всего-то на час работы получилось: где подкрасил, где клеем подтянул, где составчика особенного, на гуттаперчу похожего, ляпнул. Был Красивый, а стал никакой — заурядное такое мурло без особых примет. Одни глаза и остались от Красивого, влажные, тёмные, с шумными ресницами.
— А ты ими не лупи почем зря. Веками придерживай, — посоветовал Гримёр и взял бывшего Красивого с собою в гости.
В гостях пили недорогое вино и говорили о любви. Одни, что любви нет, а лишь один сплошной самообман, другие — что как раз есть, только надо уметь ею пользоваться, а третьи, — что было бы что назвать, а там без разницы как — хоть любовью, хоть сексом, хоть аэробикой.
Одна барышня, ничего себе, характерная такая, её все называли полностью — Екатерина, говорила, что, господи, конечно же, есть, что Овидий, Абеляр, Гёте, Пушкин и, вообще, все лучшие умы считали, что есть, и, значит, есть, и нечего тут, не дурнее нас с вами будут. А ещё она говорила о преображающей силе любви, которая подлеца делает святым, меланхолика жизнелюбом, а убогого красавцем.
Многие этому смеялись, но, впрочем, особенно не возражали. А бывший Красивый, оказавшийся напротив Екатерины, поддакивал и кивал, кивал и поддакивал, а потом, где-то после пятой или шестой, вконец рассвинговался и выдал жарким голосом сложноватый, но довольно убедительный период о том, что любовь — единственный символ веры, который остался у нас, обезбоженных, стреноженных неверием, что не понимать, не ощущать её в себе просто невозможно, — это распад, духовная погибель, и что он, в принципе, где-то согласен с Екатериной, любовь действительно преображает, просто его (он слегка смутился, однако, продолжил) его никто по-настоящему не любил, и, конечно, он понимает, что не с его суконным в известный ряд, однако ещё не вечер, ещё душа отыщется на свете, и так далее до полного изнеможения публики.
Из гостей загримированный и Екатерина ушли вместе, и он, понятное дело, пустился ее провожать.
Для начала и как бы во исполнение некоего ритуала, провожатый довольно-таки профессионально восхитился двумя-тремя подвернувшимися глазу архитектурными наворотами, а затем, изящно выйдя на котурны, весьма сносно продекламировал несколько малоизвестных сочинений Мандельштама и Тютчева.
Вскоре, впрочем, разговор вернулся на круги своя и они, возбужденно перебивая друг друга, вновь заговорили о чувственном преображении: сам ли предмет хорошеет от восторга, или в глазах любящего метаморфоза сия происходит, а также, — постепенна ли эта процедура или же внезапна.
Ни о чём толком не договорившись, добрели до её дома; разговор был в апогее, расставаться не хотелось; тем более, дома у неё никого — отец в командировке, мать на даче, а в серванте несколько капель чудного финского ликёра — короче, произошло то, что, в принципе, и должно произойти и происходит сплошь да рядом с людьми молодыми и увлечёнными друг другом.
Всю коротенькую ночь они не разлучались ни на миг, ну, разве что выбежал он разок из комнаты с невинной целью оправить себя, а потом помылся и стрелой обратно...
— И вот когда в окнах, как это говорится, слегка забрезжил день грядущий, — продолжал свой рассказ Красивый, — начала она в меня всматриваться, сперва мельком, как бы спотыкаясь обо что-то, затем всё внимательнее, всё пристальнее, а потом, совершенно неожиданно, зажгла в комнате свет и уставилась на меня обалдело.
Красивый достал сигареты, закурил. Гримёр молчал, ждал продолжения.
— "Что случилось?" — спросил я её. "Это не ты", — сказала она и повела меня к зеркалу. Я взглянул на себя, от твоих ухищрений ничего не осталось.
— Потому что тёплой водой, — сказал Гримёр.
— Почти горячей. То есть, ни следа. Разве что глаза...
— Я предупреждал, — сказал Гримёр.
— Стою перед зеркалом и удивляюсь, — продолжал Красивый. — "Как это не я?" — говорю. — "Я". "Не ты!" — она уже почти кричит. "Это другой человек. Не тот, с кем я шла по улице, с кем вошла в дом". Я молчу, смотрю в зеркало то на себя, то на неё, будто ничего не понимаю. "Ничего, — говорю, — не понимаю. Как, то есть, другой? Хуже, лучше?". Она молчит, и просто даже невооруженным видно, как крыша у неё сползает. И тут я как бы озарился, как бы сообразил, в чём дело и — "Понятно, — говорю. — Это же ведь то, о чём мы вчера ещё толковали. Ты просто влюбилась и увидела меня другими глазами, ну как бы перелепила меня, приблизила к своему идеалу!". "Я тебя ненавижу!" — говорит она медленно, и я чувствую: сейчас в ней что-нибудь вскипит, а дальше непонятно. Ломанёт чем попало по кумполу или химией какой-нибудь прыснет — и тогда уже никакой грим не спасёт. Но нет, смотрю, идёт к телефону, набирает номер...
— Ага, — сказал Гримёр. — Звонит, зараза. Я сначала заругался: в такую рань! Совсем уже, думаю, озверели. А потом допёр, в чем дело. Тем более, тут рядом...
— Сидим, ждём. Я ещё повозникал пару раз, а потом домой намылился. Не пускает. "Сидеть, — говорит. — Сейчас всё выясним и свободен". Ладно, сижу. В конце концов, думаю, выяснится, что пошутили, и всех делов. Она, кстати, знала, что ты гримёр?
— Откуда? Так, общий знакомый. Друг дома подруги.
— Но как ты классно сыграл: изумление, возмущение. "Как это не он? Вчера был он, сегодня не он? Тебя что, совсем уже заклинило?".
Гримёр и Красивый остановились посреди утренней пустынной улицы и захохотали.
— Слушай, — сказал вдруг Красивый, — а мне жалко её. У неё же в самом деле, небось, зашкалило. Может, вернемся, признаемся, а? Жалко всё-таки.
— Жалко? А ты знаешь, что мы ей счастье на всю оставшуюся жизнь сочинили?!
— Хорошенькое счастье. С оборотнем кайф ловить.
— Именно, что с оборотнем. У неё же теперь загадка появилась. Ещё одна степень несвободы. О, для их брата это очень важно. Мы её серо-пестренькому существованию такую густую красочку добавили, а ты — жалко.
— А пожалуй, ты и прав, — сказал Красивый. — И о преображении духовном реже будет выступать.
— И тоже верно, — согласился Гримёр. — А то я вчера за столом от вашего дуэта чуть ласты не отбросил.